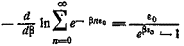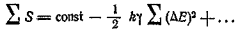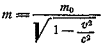Квантовая механика: её история и суть
Олег Акимов
Макс Борн: релятивизация квантовой механики
Короткая энциклопедическая справка о жизни и деятельности Макса Борна, составленная С. Г. Суворовым, который на протяжении нескольких лет внимательно следил за творчеством немецкого физика и перевел на русский язык несколько его работ
Борн (Born) Макс (р. 11.12.1882, Бреслау, ныне Вроцлав, — 5.1.1970, Гёттинген), немецкий физик, один из основателей квантовой механики. Учился в 1900 – 07 в университетах Бреслау, Гейдельберга, Цюриха, Гёттингена. В 1907 – 08 работал в лабораториях Дж. Лармора и Дж. Дж. Томсона в Кембридже. В 1908 стал сотрудником Г. Минковского. В 1909 Б. — приват-доцент Гёттингенского университета, в 1909 – 10 сотрудник А. А. Майкельсона в Чикаго, в 1919 ординарный профессор университета во Франкфурте-на-Майне, в 1921 – 33 профессор Гёттингенского университета. После установления фашистского режима в Германии эмигрировал (1933) в Англию, где занял кафедру теоретической физики в Кембридже, а с 1936 в Эдинбурге. В 1953 вышел в отставку, вернулся на родину и поселился в Бад-Пирмонте, близ Гёттингена (ФРГ).
Основные работы Б. — развитие квантовых идей Эйнштейна в применении их к проблемам твёрдого тела, строения атома; разработка (совместно с В. Гейзенбергом и П. Иорданом) математической теории квантовых процессов — квантовой (матричной) механики и обоснование её статистической трактовки. Ряд работ Б. посвящен теории относительности. В 1913 – 15 Б. создал (совместно с М. Лауэ) динамическую теорию кристаллической решётки, установил (1919) важное термодинамическое понятие энергии решётки, на основе которого им вычислен ряд физико-химических постоянных. Б. указал способ расчёта электронных оболочек атома, предложил и разработал (1926) приближённый метод теории столкновений микрочастиц, носящий его имя. В 1926 Б. (совместно с Н. Винером) ввёл понятие оператора в квантовой механике.
В теоретическом семинаре Б. в Гёттингене принимали участие многие известные учёные мира, в том числе и советские. Б. опубликовал около 350 научных работ, в том числе 20 научных и научно-популярных книг. За выдающиеся заслуги в развитии квантовой механики Б. присуждена Нобелевская премия (1954). Б. — член ряда иностранных академий; с 1934 — иностранный член АН СССР.
Б. как учёного характеризует стремление к философскому осмыслению нового этапа развития физики. Он защищает идею тесной взаимосвязи физической теории и эксперимента, отклоняет догматический и априористический подходы к развитию физических представлений и теорий, критикует позитивистское истолкование физических теорий. Б. защищает идею о наличии вне нас «физической реальности», которая находит отражение в физических теориях в виде инвариантов; он выступает в защиту существования в природе причинно-следственной связи нового вида — связи по смежности, включающей в себя и случайность. Однако эти взгляды («реализм») Б. противопоставляет и материализму, считая, что они выработаны современной физикой самостоятельно, на основе анализа новых открытий (теории относительности, квантовой физики), которых классический материализм не мог учитывать.
Б. — активный борец за мир. Он участник первых пагуошских конференций, один из инициаторов гёттингенской декларации немецких учёных, отказавшихся от участия в атомных исследованиях, преследующих военные цели. Б. неоднократно выступал в печати и с публичными заявлениями против атомного вооружения бундесвера, против внешней политики ФРГ и введения чрезвычайных законов в ФРГ (1968).
Соч. в рус. пер.: Строение материи. Три статьи по современной атомистике и электронной теории, П., 1922; Химическая связь и квантовая механика, Хар., 1932; Лекции по атомной механике, т. 1, Хар.—К., 1934; Современная физика, 2 перераб. изд., Л.—М., 1935; Атомная физика, М., 1965; Оптика. Учебник электромагнитной теории света, Хар.—К., 1937: Теория твердого тела... Динамика кристаллической решетки, Л.—М., 1938 (совм. с М. Гепперт-Майер); физика в жизни моего поколения, М., 1963; Эйнштейновская теория относительности, М., 1964; Ряд статей в журн. «Успехи физических наук» (см. Указатели УФН).
Лит.: Суворов С. Г., Макс Борн и его философские взгляды, в сборнике: Борн М., Физика в жизни моего поколения, М., 1963.
Начало путиМакс Борн (Max Born) родился 11 декабря 1882 года в немецком городе Бреслау (Силезия, Пруссия); сегодня это польский город Вроцлав. Однако его считают всё же немецким, а не польским физиком, поскольку большую часть своей жизни он связал с Германией. Его дед был первым евреем, официально получившим от прусского правительства должность районного врача. У его отца, Густава Борна, профессора анатомии, заведующего кафедрой анатомии и физиологии медицинского факультета Бреславского университета, и матери, Маргарет Кауфман, дочери богатого фабриканта, талантливой пианистки, позднее родилась дочь. Мать умерла, когда Максу исполнилось четыре года. На всю жизнь он унаследовал от нее любовь к музыке и прекрасно играл на фортепиано. Отец женился вторично в 1890 году, но между мачехой и приемным сыном никогда не было близких отношений.
Больше всего отца интересовала эмбриология и механизмы эволюции. «Еще в юном возрасте, — вспоминает Борн, — мы с сестрой зачастили в отцовскую лабораторию, заставленную приборами, микроскопами, микротомами и другими интересными вещами. Позднее мне разрешали присутствовать на дискуссиях отца с его учеными друзьями...» [1, с. 15].
Макс закончил в своем родном городе гимназию кайзера Вильгельма, где изучались история, латынь, греческий и современные европейские языки, а также математика и физика. Хуже всего у мальчика обстояли дела с математикой; как он сам потом признавался, педагоги считали его «плохим математиком». Может быть, поэтому в университете и в своих последующих исследованиях он уделил этому предмету повышенное внимание. В школьные годы он прочел Гомера; в воспоминаниях по этому поводу он написал: «я всё ещё помню наизусть немало строк из "Одиссеи"» [1, с. 15]. Преподаватель математики, физики и химии по имени Машке повторил эксперимент Маркони по передаче радиосигнала из одной комнаты в другую. Макс Борн был у Машке ассистентом. Потом этот опыт повторили в присутствии директора гимназии, Эккарда, на которого, однако, «это не произвело ни малейшего впечатления» [1, с. 16].
Отец умер незадолго до окончания сыном гимназии. В 1901 году Макс поступил в местный университет; получение высшего образования была сопряжена одним обстоятельством. «Незадолго до смерти, — пишет Борн, — отец посоветовал не спешить с выбором специальности, а посещать в университете лекции по различным предметам и лишь после этого, через год, принять решение» [1, с. 16].
Учился Макс Борн средне (включая математику и физику), ни одному из предметов не было отдано предпочтение. В это время ему больше всего нравилась астрономия. Во-первых, потому что она переживала свой романтический период (см. Марсианские каналы — коллективная галлюцинация, спровоцированная Скиапарелли и Лоуэллом). Во-вторых, ее преподавал прекрасный астроном, Юлиус Франц, который, как про него говорили, знал поверхность Луны лучше, чем Земли. Франц научил Борна обращаться с высокоточными приборами (не только телескопами), вести тщательные наблюдения небесных светил и аккуратно записывать результаты наблюдений в протокол. Кроме астрономии, Борн интересовался также зоологией и общей биологией, с удовольствием читал книги по логике и философии, однако физика и математика, которые давались ему нелегко, не считались его любимыми предметами.
Так как университет Бреслау не был на передовом фронте мировой науки и не славился своими профессорами, два следующих летних семестра студент Макс решил провести в университетах Гейдельберга и Цюриха. Это не было каким-то экстраординарным поступком; многие студенты летние семестры проводили в престижных университетах Европы. Надо сказать, что в то время учебный год делился на летний и зимний семестры, а не как сейчас, на весенний и осенний. Строгой учебной программы не существовало, по окончании семестра никаких зачетов или экзаменов не было, сдавались только выпускные экзамены. Посещение лекций тоже не контролировалось администрацией университета, студент волен был выбирать любой понравившийся ему лекционный курс. Не было большой проблемой перейти из одного университета в другой.
Любопытно, что в Гейдельберге Борн слушал математические лекции профессора Лео Кёнигсбергера, которые в 1897 году слушала Милева Марич, будущая жена Эйнштейна (см. Милева Марич как подруга и жена Альберта Эйнштейна). В Гейдельберге на лекциях Кёнигсбергера Макс Борн познакомился с Джеймсом Франком, который в 1925 год получил Нобелевскую премию за исследования столкновений электронов с атомами. Позднее он участвовал в Манхэттенском проекте по созданию американской атомной бомбы. Но Борн, как и Эйнштейн, в нём не участвовал, так как оба они никогда не занимались ядерной физикой. Впоследствии Франк и Эйнштейн стали самыми близкими друзьями Борна. В Цюрихе Борн посещал математические лекции Адольфа Гурвица, которого в свое время слушали Милева Марич и Альберт Эйнштейн. Гурвиц тепло относился к Милеве (она бывала у него дома), но ее возлюбленного, Альберта, он отказался взять к себе в ассистенты после окончания (1900) Политехникума. Между тем у будущего всемирно известного релятивиста дела шли не самым лучшим образом: в течение следующих двух лет он, по сути дела, оставался безработным.
Весной 1904 года по окончании третьего курса факультета математики, физики и астрономии Макс Борн навсегда распрощался с университетом Бреслау и поступил в Геттингенский университет, в котором тогда преподавали три известных математика — Феликс Клейн, Давид Гильберт и Герман Минковский. «Моя мачеха, — вспоминает Борн, — была родом из Кенигсберга и знала там Минковского. Она дала мне рекомендательное письмо к нему, которое я и принес к Минковским на улицу Планка [так она называется сейчас]. Однако сначала я не посещал его лекций, а предпочитал Гильберта... По заведенному тогда обычаю, один из студентов брал на себя обработку лекции. Проверенная профессором рукопись передавалась затем в читальный зал как вспомогательный материал для студентов. Для выполнения этой обязанности Гильберт выбрал из группы кандидатов меня, и таким образом, будучи еще совсем молодым, я сблизился с великим математиком и лично» [2, с. 296 ].
Из Бреслау в Геттинген вслед за Борном прибыл и его друг, Рихард Курант, который позднее стал «видной фигурой в американской математике, возглавив известную школу Нью-Йоркского университета» [1, c. 17].
Минковский пригласил студента Борна к себе домой на обед, познакомил с молодой женой и двумя дочками. Родом он был из-под Минска, но из-за еврейских погромов вместе с семьей бежал из России в Кенигсберг, откуда был родом и Гильберт. «Там Герман с октября 1872 года посещал Альтштадтскую гимназию... С 1880 г. он пять семестров проучился в Кенигсберге, затем три семестра в Берлине у Куммера, Кронекера, Вейерштрасса, Гельмгольца и Кирхгофа. Его дружба с Гильбертом началась еще в первые студенческие годы и продолжалась до преждевременной смерти Минковского» [2, с. 296 ].
В 1885 году Минковский в Кенигсберге защитил докторскую диссертацию; в 1887 становится приват-доцентом в Бонне, где знакомится с Генрихом Герцем, который увлек его физикой. В 1892 году Минковский получает профессорскую должность в Боннском университете, а в 1896 году его пригласили в Политехникум Цюриха, где в то время учился Альберт Эйнштейн и Милева Марич. Здесь он женился на Августе Адлер и в 1902 году вместе с ней отбыл в Геттинген.
Феликс Клейн был единственным профессором математики в Геттингенском университете, но очень известным и влиятельным. Он считал математику мертвой наукой, если она не получала применения в физике, астрономии и других прикладных областях естествознания. Поэтому он добился от руководства университета и министерства образования еще одного места на должность профессора математики, на которое он планировал пригласить Гильберта, увлекшегося в то время проблемами физики. Однако тот не хотел ехать в Геттинген без своего друга Минковского. Клейну ничего не оставалось делать, как добиться выделения третьего места под профессора математики. Таким образом, по числу профессоров математики Геттингенский университет сравнялся с Берлинским; в большинстве же германских университетов их было два.
Борн пишет: «Мои отношения с Клейном сложились не очень удачно. Мне не нравились его лекции, они казались чересчур совершенными. Он заметил, что я часто отсутствовал, и выразил свое неудовольствие. ... Я был с Клейном в натянутых отношениях в течение долгого времени. Поэтому я не рискнул экзаменоваться у него по геометрии и избрал астрономию. Профессором астрономии был почтенный Карл Шварцшильд, отец знаменитого Мартина Шварцшильда из Принстонского университета. Он помог мне привести свои познания в астрономии в соответствие с последними достижениями, и я таким образом получил докторскую степень в 1907 году» [1, c. 18 – 19].
Далее Борн продолжает: «Преподавание физики было также стимулирующим. Теоретическую физику читал Вольдемар Фойгт. Я посещал его лекции по оптике и прослушал его углубленный курс по экспериментальной оптике. Это были блестящие курсы, и они послужили солидной основой моих знаний в оптике. Много лет спустя (1922 г.), когда Альберт Майкельсон пригласил меня прочесть курс лекций по теории относительности в Чикагском университете, все свое свободное время я обычно проводил за спектроскопическими исследованиями, пользуясь чудесным интерферометром Майкельсона.
И снова, спустя годы, вооруженный этими знаниями, я написал удачный учебник по оптике (Берлин, 1933 г., на немецком языке), а много лет спустя — другой учебник совместно с Е. Вольфом (Лондон, 1957 г., па английском языке). Это показывает, что для написания полноценной научной книги нет нужды специализироваться в данной области, необходимо лишь схватить суть предмета и потрудиться в поте лица.
Меня никогда не привлекала возможность стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, которые считались моей областью. Я не подошел бы, вероятно, для современных методов научной работы, ведущейся коллективами узких специалистов. Философский подтекст науки всегда интересовал меня больше, чем ее специальные результаты. Я слушал лекции по философии, например Эдмунда Гуссерля в Геттингене, но не примыкал ни к его, ни к какой-либо иной школе» [1, c. 19 – 20].
Докторская диссертация Борна называлась «Исследование устойчивости упругих линий на плоскости и в пространстве в различных краевых условиях». Эксперименты по явлениям упругости он выполнял в студенческой комнате, в которой жил, на самодельных установках. После защиты докторской Борн отправился на стажировку в Кембридж, где слушал лекции Лармора и работал в Кэвендишской лаборатории Дж. Дж. Томсона. «Я понял, — вспоминает Борн, — что трактовка электромагнетизма Лармора едва ли содержала для меня что-либо новое по сравнению с тем, что я узнал от Минковского. Но демонстрации Дж. Дж. Томсона были блистательными и вдохновляющими. Однако самыми дорогими переживаниями той поры были, конечно, человеческие чувства, которые вызвали во мне доброта и гостеприимство англичан, жизнь среди студентов, красота колледжей и сельских пейзажей» [1, c. 21].
Историки науки часто рисуют идиллическую картину развития физики, в которой все исследователи неведомого мира живут одной дружной семьей. Это далеко от истины. Борн совершенно не принял мировоззрения упомянутых им английских физиков. Позиция Томсона и Лармора была противоположна позиции Минковского и Эйнштейна. Не сказать здесь о принципиальных разногласиях — значит, утаить то главное в истории науки, что только и достойно упоминания.
После полугодичной стажировки в Кембридже Борн осенью 1907 года вернулся в свой родной Бреслау, где некоторое время работал с Отто Луммером и Эрнстом Прингсгеймом, «получившим известность благодаря своим измерениям излучения черного тела. Но я многому от них не научился, — пишет Борн, — и вскоре снова обратился к теории. Тут я наткнулся на статью Эйнштейна 1905 года о специальной теории относительности и был сразу очарован ею. Сочетая его идею с математическими методами Минковского, я нашел новый прямой способ вычисления электромагнитной собственной энергии (массы) электрона и послал рукопись Минковскому. К моему величайшему удивлению, он ответил мне приглашением возвратиться в Гёттинген и помогать ему в работе над теорией относительности» [1, с. 21].
Удивительно, как одинаково мыслящие люди находят друг друга. Сегодня мы знаем, что первая статья Эйнштейна представляет собой математические спекуляции, выстроенные на совершенно абсурдных физических представлениях. Диаграмма Минковского — это несостоявшаяся трактовка лоренцевского сокращения длины и замедления времени. И вот мы видим, как их единомышленник, популяризатор и последователь всячески возвеличивает имена людей, нанесших непоправимый урон науке. Борн рассказал о благородстве своего учителя: «Минковский, еще будучи студентом первого курса, получил за решение одной математической задачи денежную премию, но отказался от нее в пользу бедного соученика и всю эту историю утаил от своей семьи. Это только один пример его доброты и скромности, о которых знали все люди, которые с ним соприкасались» [2, с. 296].
Несмотря на теоретические расхождения, Борн всегда очень тепло отзывался о родоначальнике теории относительности, часто идеализируя его поведение. Например, он пишет: «Любое имущество было ему в тягость, и в стремлении к обладанию собственностью он видел самую глубокую основу для ссор и войн между людьми. Культ государственной власти и технической мощи был ему точно так же противен, как милитаризм и фашизм» [6, с. 391]. В определенном смысле это является героизацией кумира, когда отрицательные черты эйнштейновского характера выдаются за продолжение его положительных качеств. Известно, что Эйнштейн придерживался левых взглядов, симпатизируя даже сталинскому режиму. Его близким другом и преданным единомышленником был коммунист Леопольд Инфельд. Однако не все коммунисты были равнодушны к собственности. Понятно, что эйнштейновская леность и бытовая неустроенность весьма опосредованно связана с его политическими убеждениями.
Борн с ЭйнштейномТем, кто интересуется историей создания теории относительности, можно порекомендовать внимательно прочесть воспоминания Макса Борна (1882 – 1970). Он сам был со студенческой скамьи релятивистом, в 1909 году познакомился с Эйнштейном и постоянно вращался в кругу убежденных релятивистов. Наряду с Майей Эйнштейн (сестрой Альберта, защитившей в 1908 году в Цюрихском университете докторскую диссертацию по романской филологии) Борн сообщил нам, что работа «К электродинамике движущихся тел» первоначально представлялась в Цюрихский университет в качестве диссертации, когда самый первый вариант диссертации о Броуновском движении был отклонен. Важность его воспоминаний состоит в том, что в них рассказывается о многочисленных каналах, по которым Эйнштейн и его первая жена, Милева Марич (1875 – 1943), могли получать информацию, связанную с теорией относительности.
В частности, в небольшой статье о Гильберте, написанной в 1922 году, Борн пишет: «К тому времени, когда появилась первая знаменитая работа Эйнштейна, содержащая представление об относительности времени, Минковский уже открыл математическую структуру полевых уравнений эфира, дал их представление в четырехмерном пространственно-временном мире и осознал значение инвариантности законов природы относительно группы преобразований Лоренца. Но лишь в 1908 году он предал гласности свои мысли, после того как ему удалось вывести из принципа относительности уравнения поля для движущихся весомых тел» [4, с. 25].
Геометр Гильберт, воспитанник школы Клейна, сформировавшийся как математик в духе Эрлангенской программы, заинтересовался проблемами физики главным образом под влиянием Минковского. С 1885 по 1893 гг. Гильберт занимался исключительно теорией инвариантов Клейна. После смерти Минковского его многие работы касались уже вопросов физики. Гильберт в течение еще долгого времени, примерно с 1910 по 1930 гг., продолжал читать лекции по тем или иным вопросам физики, а также вел в Геттингенском университете семинар по самым проблемным темам науки.
Известный математик Герман Вейль, также работавший на поприще релятивистской физики, вспоминает о нем так: «В своих исследованиях по общей теории относительности Гильберт соединил теорию гравитации Эйнштейна с программой единой теории поля Г. Ми. Более трезвый подход Эйнштейна, не связанный с весьма спекулятивной программой Ми, оказался более полезным. Работа Гильберта может рассматриваться как предвестник единой теории гравитации и электромагнетизма. Однако в гамильтониане Гильберта остается еще слишком много произвольности; последующие попытки избавиться от нее (Вейль, Эддингтон, сам Эйнштейн и другие) не достигли окончательной цели. В то время в кружке Гильберта царило очень радужное настроение; мечта о некотором универсальном законе, управляющем как космосом в целом, так и всеми атомными ядрами, казалась почти воплощенной. Однако проблема создания единой теории поля остается нерешенной и поныне; почти наверняка, помимо гравитации и электромагнетизма, удовлетворительное решение должно будет включать и материальные волны (функцию ψ Шрёдингера — Дирака для электрона и аналогичные характеристики поля для других ядерных частиц), а математическое оформление теории не ограничится простым обобщением ставшей уже классической теории гравитации Эйнштейна» [5, с. 359 – 360].
Герман Минковский (1864 – 1909) заинтересовался физикой в 1887 году, когда в Бонне, будучи приват-доцентом, познакомился и сдружился с Генрихом Герцем, работавшим в то время над проблемами электродинамики движущихся тел. С 1896 года он начал преподавать в Федеральном политехникуме, где с 1896 по 1902 год учились Альберт и Милева. Будучи сравнительно молодым и энергичным преподавателем, Минковский всячески поощрял и поддерживал инициативных и умных студентов, желающих посвятить себя науке. Эйнштейна он к таковым не относил, называя его «ленивой собакой», потому что отец-основатель теории относительности не проявлял и «тени энтузиазма» к его предмету, а вот в Максе Борне увидел своего единомышленника и пригласил его к себе работать в качестве помощника.
«Позднее, в 1909 году, — вспоминает Макс Борн, — когда я уже был сотрудником Минковского по проблемам теории относительности, он сказал мне как-то: "Ах, Эйнштейн, да ведь он всегда отлынивал от лекций, ему бы я это никогда не доверил"» [6, с. 402]. Минковский часто говорил студентам Геттингенского университета: «Эйнштейн излагает свою глубокую теорию с математической точки зрения неуклюже — я имею право так говорить, поскольку своё математическое образование он получил в Цюрихе у меня» [5, с. 149].
Уже в этот период Минковский заинтересовался проблемами относительности, разрабатывал собственную теорию, которую, однако, историки науки не особенно жалуют. Объясняется это следующими причинами. Гильберт после неожиданной смерти Минковского 12 января 1909 года поручает своему помощнику Борну тщательно изучить и привести в порядок черновики и наброски умершего для последующей их публикации. В последние годы Минковский разрабатывал идею геометризации физики, делая упор не на гравитационном поле, как Эйнштейн, а на электромагнитном. Как и Эйнштейн, он отталкивался от последних работ двух итальянских математиков, Риччи и Леви-Чивита, по дифференциальной геометрии, впервые предложенной Риманом. Однако Борн не был Гроссманом (соавтор Эйнштейна по созданию общей теории относительности), не знал в нужном объеме этой математики, плохо разобрался в замыслах автора, так что вышедшая в его обработке теория Минковского выглядела крайне неубедительно. Впрочем, чьей вины здесь было больше, самого Минковского или Борна, сказать трудно.
Иногда дело представляют так, будто учитель Эйнштейна, заинтересовавшись работой студента, помог тому с геометрической интерпретаций четырехмерного пространственно-временного континуума. Все было ровно наоборот. По заведенным тогда правилам ведущие профессора высшей школы периодически выступали с научными сообщениями и докладами перед коллегами и студентами. Трудно представить, чтобы во время своих лекций и семинаров, которые студент Эйнштейн большей частью прогуливал, Минковский не рассказывал о своей релятивистской теории, над которой к тому времени уже плотно работал. Вне всякого сомнения, если не сам Альберт, то во всяком случае Милева или их друг, Гроссман, слышали о физических задачах, над которыми бился профессор математики.
«Больше, чем на лекциях, — пишет Макс Борн, в воспоминаниях 1959 года о Германе Минковском, — я узнал от него на семинаре по электротехнике движущихся тел. Этим семинаром Гильберт и Минковский руководили совместно. Это было в 1905 г., в том самом году, когда появилась знаменитая работа Эйнштейна "К электродинамике движущихся тел", содержащая его обоснование теории относительности. Но об этом в Геттингене еще ничего не было известно, и имя Эйнштейна упомянуто не было. Дискуссии ограничивались только попытками объяснить опыт Майкельсона и Морли, а идея относительности обсуждалась в той форме, как она была развита Г.А. Лоренцем и Анри Пуанкаре. Я вспоминаю, что Минковский попутно намекал на то, что он занимается преобразованиями Лоренца и уже напал на след новых взаимосвязей. На меня произвели сильное впечатление семинарские дискуссии, и я намеревался тему моей докторской диссертации выбрать из этой области» [6, с. 404; 4, с. 84].
Все, кто знал уравнения Максвелла, непременно что-нибудь слышал о работах Герца, Лоренца и Пуанкаре, которые развивали дальше электродинамику. В университетской среде все три имени звучали постоянно. Об эксперименте Майкельсона — Морли тоже, наверняка, знал любой студент физического факультета. О том что, ситуация с теорией относительностью была примерно такой, нам рассказывает Макс Борн в своих «Воспоминаниях об Эйнштейне».
«Что касается специальной теории относительности, — пишет Борн, — то я был ее знатоком еще со студенческих лет. Она ведь не была создана из ничего одним Эйнштейном, как это часто утверждается в популярных изложениях. Проблема относительности медленно выкристаллизовывалась из наблюдаемых фактов, формальный математический аппарат отыскивался Фицджеральдом, Лармором, Пуанкаре и Лоренцем. В том же 1905 году, в котором появилась первая работа Эйнштейна по теории относительности, я принимал участие в геттингенском семинаре, руководимом Гильбертом и Минковским; на семинаре основательно обсуждался весь этот комплекс вопросов.
... Тем временем я вернулся из Геттингена на свою родину во Вроцлав и работал по релятивистским проблемам, которые касались уравнения движения электрона. Об этом я говорил со своими друзьями. Один из них, поляк Станислав Лориа, который позднее стал первым польским профессором во Вроцлаве, обратил мое внимание на работы Эйнштейна. Для меня идея относительности была совершенно привычна... И все же для меня, как и для многих друзей, работы Эйнштейна были откровением, потому что только благодаря им был раскрыт глубокий смысл преобразований Лоренца и в физику был введен новый философский метод» [6, с. 384].
Этот отрывок дает читателю представление, насколько актуальна и популярна была релятивистская проблематика. Ею занималось немалое число молодых людей, собиравшихся связать свою будущую научную карьеру с физикой. Уже тогда многие понимали, что релятивистские представления о пространстве и времени, если таковые окажутся истинными, должны быть помещены в основание физических представлений о мире. Борн считал, что основной вклад Эйнштейна в специальную теорию относительности, заключается в его трактовке преобразований Лоренца. В действительности же этот пункт является наиболее слабым звеном всей современной физики.
Пуанкаре во Франции, Лоренц в Голландии, Лармор в Великобритании, Минковский в Германии создавали теорию относительности — вся Европа погрузилась в релятивистскую атмосферу. Однако внутри релятивистского сообщества ученых наблюдались заметные напряжения, вызванные чувствами симпатии и антипатии. Эйнштейн находился в непосредственном контакте с Германом Минковским, когда тот работал над своим вариантом теории относительности. Его преподаватель, профессор математики подошел к разработке теории весьма основательно, работал над ней много лет, но опубликовал результаты поздно, незадолго до своей скоропостижной кончины. К этому времени другие физики, работавшие в этом направлении, уже напечатали свои соображения и выводы.
В работе «Основная теория электромагнитных процессов в движущихся телах» Минковский разработал аппарат релятивистской физики, куда входили понятия о собственном времени, массе покоя, 4-векторах и т.д. Глядя на проделанную им работу и работу Пуанкаре, Лоренца, Лармора, понимаешь, насколько тесно переплелись все их идеи. Сейчас очень трудно установить авторство основных релятивистских идей. Различия касались смысловых деталей, которые, с точки зрения формальных выкладок, не играли большой роли. Радикализм взглядов Эйнштейна связан главным образом с его трактовкой замедления течения времени. Выбор в пользу эйнштейновской трактовки сделали, собственно, не ученые, а некомпетентные слои общественности, которой импонировала романтическая интерпретация преобразований Лоренца, навеянная фантастическими романами Герберта Уэллса.
То, что фигурирует в статье Эйнштейна в форме «первого постулата», а в статье Пуанкаре — в форме «принципа относительности», в статье Минковского называется «мировым постулатом». В эйнштейновской работе 1905 года принцип относительности звучал следующим образом: «Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которым из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся» [7, т. 1, с. 10].
Вряд ли Эйнштейн перенял его у Минковского. Многое говорит о том, что данный эпистемологический принцип Эйнштейн позаимствовал у Пуанкаре (об этом более подробно читайте в разделе Теория относительности Пуанкаре). Французский ученый еще в 1895 году в работе «К теории Лармора» писал: «Опыт дал множество фактов, которые допускают следующее обобщение: невозможно обнаружить абсолютное движение материи, или, точнее, относительное движение весомой материи и эфира» [12, с. 7].
Последующие формулировки этого принципа у Пуанкаре выглядят так: «Движение всякой системы должно подчиняться одним и тем же законам независимо от того, относим ли мы его к неподвижным осям или к подвижным, перемещающимся прямолинейно и равномерно. Этот – принцип относительности движения, обязательный для нас по двум причинам: во-первых, его подтверждает самый обыденный опыт и, во-вторых, противоположное допущение совершенно не укладывалось бы в голове» [12, с. 24].
«Законы физических явлений должны быть одинаковы для неподвижного наблюдателя и для наблюдателя, совершающего равномерное и прямолинейное движение, так что мы не имеем и не можем иметь никакого способа определять, находимся ли мы в подобном движении или нет» [12, с. 30].
«Эта невозможность показать опытным путем абсолютное движение Земли представляет, по-видимому, общий закон природы; мы, естественно, приходим к тому, чтобы принять этот закон, который мы называем "постулатом относительности", и принять без оговорок. Все равно, будет ли позднее этот постулат, до сих пор согласующийся с опытом, подтвержден или опровергнут более точными измерениями» [12, с. 118].
«... Коперник сказал нам: удобнее предположить, что Земля вращается, потому что тогда законы астрономии выражаются более простым языком... » [10, с. 78].
Борн слушал знаменитое выступление Минковского в сентябре 1908, когда тот произносил восторженные слова: «Милостивые господа! Воззрения на пространство и время, которые я намерен перед вами развить, возникли на экспериментально-физической основе. В этом их сила. Их тенденция радикальна. Отныне пространство само по себе и время само по себе должны обратиться в фикции и лишь некоторый вид соединения обоих должен еще сохранить самостоятельность» [12, с. 167].
Борн пишет: «Об Эйнштейне он [Минковский] говорил, что тот "отвергал время как понятие, однозначно определенное событиями"; и затем Минковский продолжает: "Понятие пространства и времени не пересмотрели ни Эйнштейн, ни Лоренц". На этот шаг он, очевидно, претендовал сам. Мне кажется это неверным. Из работы Эйнштейна ясно вытекает, что он сознавал полную эквивалентность всех систем отсчета и тем самым отвергал как абсолютное пространство, так и абсолютное время. То, что сделал сам Минковский, — это выработка представления о четырехмерном мире, элементы которого, "события", снова обладают физической реальностью, независимой от любой системы отсчета» [4, с. 87].
Действительно, Эйнштейн не мыслил мир четырехмерным. Квадратичный инвариант он трактовал, как распространение сферической волны света в трехмерном пространстве: x² + y² + z² = c²t². В соответствии с этим уравнением, он говорил, что световая волна, распространяясь со скоростью c через промежуток времени t, очертит в пространстве сферу x² + y² + z². В связи с этим нелишне напомнить еще раз уже приводимые слова Лоренца: «Пуанкаре замечает, например, что при рассмотрении x, y, z, ti как координат точки в четырехмерном пространстве релятивистские преобразования сводятся к вращению в этом пространстве» [11, c. 162]. О вращательном характере пространственно-временных преобразований не догадывался ни Эйнштейн, ни Лоренц. О групповых свойствах преобразований Лоренца Пуанкаре дошёл самостоятельно, возможно, под воздействием работ немецких математиков геттингенской школы, с которыми он встречался в Париже в 1900 г.
Борн вспоминает: «В первое время, примерно к 1909 г., когда я познакомился с Эйнштейном, он был довольно уклончив [в отношении Минковского] и видел в работе Минковского не более чем излишний побочный математический труд» [4, с. 88]. Это и понятно: у Минковского и Гильберта идеология релятивизма брала свое начало от Геттингенской школы, которая сформировалась под влиянием геометрических идей Феликса Клейна и его предшественников (см. раздел Геометрия и опыт: Гаусс, Риман, Клейн, Пуанкаре), в то время как первая работа Эйнштейна написана под влиянием работ Анри Пуанкаре ( см. Теория относительности Пуанкаре) и Эрнста Маха.
Минковский, немало сделавший для процветания релятивистского формализма, опирался на идею инварианта. Он один из первых отождествил физический принцип относительности с геометрическим принципом инвариантности, что позволило ошибочно считать, будто преобразования Лоренца применимы к поступательному движению. Минковский вместе со своим другом Адольфом Гурвицем (1859 – 1919), который также был тесно связан с Геттингенской школой формализма, непосредственно влиял на мировоззрение Эйнштейна, когда тот еще учился в Политехникуме вместе со своей женой Милевой Марич, будущим соавтором по специальной теории относительности, и будущим соавтором по общей теории относительности, Марселем Гроссманом (1878 – 1936).
Уместно задаться вопросом, почему Эйнштейн никогда не упоминал того вполне известного факта, что статья 1905 года, прежде была докторской диссертацией, как об этом сообщает его сестра Май и близкий друг, Макс Борн. Не потому ли, что к этой диссертации он имел весьма опосредованное отношение. И потом, зачем соискателю две различных диссертации, откуда взялась эта вторая диссертация? Далее, почему Эйнштейн никогда не рассказывал, в какой последовательности решались задачи, представленные в данной работе, в каком порядке приходили к нему идеи, охватывающие довольно обширный круг вопросов кинематического и электродинамического характера? Если не эксперимент Майкельсона — Морли был для него источником вдохновения, как об этом он не раз заявлял, то что послужило толчком для написания довольно разнородных по смыслу частей работы? Куда делись черновики и наброски? Когда читаешь воспоминания Эйнштейна об этом периоде, отчетливо понимаешь, что автор говорит о чём угодно, только не о своей первой работе. Более того, создается впечатление, будто автор запамятовал ее содержание.
Итак, набросаем общую картину событий, непосредственно предшествующую публикации статьи «К электродинамике движущихся тел». После окончания Политехникума и получения диплома Эйнштейну необходимо было представить на суд ученого совета докторскую диссертацию; она давала бы ему право преподавать в университете. Тема диссертация была связана с термодинамикой и статистической физикой; 13 декабря 1900 года он посылал в «Annalen der Physik» — ведущий научный журнал Германии, возглавляемый Вином и Планком — свою первую работу на эту тематику, а первый вариант диссертации он отослал в Цюрихский университет в ноябре 1901 года.
Поскольку он тогда еще плохо был знаком с предметом, в частности, не знал о работах Больцмана и Гиббса в этой области, то его первые работы не имели никакой научной ценности (в «Автобиографии» Эйнштейн называл их «ученическими»). Однако Милева в то время охарактеризовала их как «очень значительные» и писала своей подруге: «Ты понимаешь, как я горжусь моим возлюбленным» [8, с. 88]. Она всегда искренне радовалась за своего возлюбленного, видя в нем, вопреки действительному положению вещей, способного ученого. Когда его первая диссертация провалилась, она решила испытать на прочность и свою диссертацию, которая, однако, была также отклонена, как было сказано, по причине неуважения к авторитетам. Тогда эти две диссертации (мужа — по молекулярной физики и жены — по теории относительности) в числе других работ, в частности, по фотоэффекту, были посланы в журнал «Annalen der Physik».
Руководителем диссертационной работы Альберта Эйнштейна был профессор Цюрихского университета Кляйнер. Как это обычно бывает, все, кого это касалось, более-менее знали, чем занимается бывший нерадивый студент и на каком материале он собирается защищаться. Было бы крайне нелогично менять тематику диссертации на этапе ее защиты, так как это свидетельствовало бы о несерьезности намерений претендента на звание доктора. В адрес Кляйнер со стороны Эйнштейна летели жуткие угрозы: «Надеюсь, он не посмеет дать плохой отзыв о моей диссертации, в противном случае мне с этим господином делать нечего»; «Поразительно, сколько препятствий ставят эти старые филистеры на пути у тех, кто не принадлежит к их стаду»; «Если он не одобрит эту работу, я опубликую и ее, и его отказ и выставлю его дураком» [8, с. 110].
Эйнштейн был в своем амплуа, но вся эта юношеская заносчивость не шла дальше писем к Милеве. Добавим также, что вопрос о броуновском движении был поднят Пуанкаре на физических конгрессах в 1900 года и 1904 года. Однако, кто посоветовал Эйнштейну заняться теорией относительности и молекулярной физикой, кто повлиял на его выбор, каких авторов он читал и где он черпал отправные идеи, до 1987 года никто из историков науки ничего не знал. Сегодня нам многое известно. Милева Марич, умная и преданная ему жена — вот, кого он слушал, кто был для него непререкаемым авторитетом, кого он любил и боготворил (более подробно о ней читайте в разделе Милева Марич как подруга и жена Эйнштейна).
Увы, чужие женщины для него значили больше, чем его собственная жена и его наука, которая в основном делалась ее стараниями. Брайен, говоря об этой его скверной черте характера, между прочим замечает: «В кругу же друзей, главным образом врачей и коллег-физиков, он был оживлен, общителен и остроумен. Эйнштейн также поддерживал самые теплые отношения с их женами, по крайней мере с некоторыми. Пожалуй, одними из самых теплых они были у него с Хеди [Ядвига] Борн, дамой из театральных кругов и женой физика Макса Борна, который испытывал к Эйнштейну привязанность и, как правило, разделял его политические и общественные взгляды. Что касается супруги Макса, то она питала убеждение, будучи, возможно, единственной в своем роде, что потрясающее умение жить, присущее Эйнштейну, даже превосходит его научные достижения» [9, с. 261].
Эта особа действительно разглядела в характере физика его самую главную черту — «умение жить», т.е. получать от жизни максимум удовольствий, затратив при этом минимум собственных усилий. Удивительно, как он умел окружить себя нужными людьми. Все его помощники в области математики (за исключением Громмера) впоследствии оставили воспоминания о нем, как о некоем божестве, интеллектуальном гиганте и обаятельной личности. Его считали великим космологом, хотя он никогда не интересовался конкретной астрономией, за исключением разве что аномального движения перигелия Меркурия. Он вообще, как сейчас выясняется мало, чем всерьез интересовался.
В другом месте Брайен пишет: «Интерес Эйнштейна к другим женщинам не ограничивался Хеди Борн, хотя в случае с нею дело вряд ли зашло дальше флирта» [9, с. 243]. Плохо же он знает этого ловеласа, раз так говорит (см. Любовницы Эйнштейна). В то время Борн переключился с теории относительности на квантовую механику. Эйнштейн «сказал Хеди Борн, что ему ненавистна новая идея ее мужа» [9, с. 242]. Отношения между ним и Борном испортились примерно в середине 20-х годов и были далеки от тех уважительных, какими они были во времена написания Борном книги «Эйнштейновская теория относительности», т.е. до 1920 г., когда он много сделал для развития и популяризации теории относительности.
Со временем у него с Эйнштейном возникли определенные расхождения, связанные с трактовкой волновой функции электрона. Дело в том, что дискретные состояния атома Бора, так называемые стационарные орбиты электронов, не желали следовать детерминистским законам. Впервые выход из этой трудности попытался найти Гейзенберг. Он отказался от детального описания движений электронов в классическом смысле, введя в теоретическое рассмотрение лишь непосредственно наблюдаемые величины. Этим феноменологическим путем он пришел к установлению определенных алгебраических соотношений статистического характера. В совместной работе с Иорданом и Борном была открыта тесная связь использованного метода расчета с матричным исчислением. Дальнейшие шаги в этом направлении были предприняты Паули и Дираком.
Всё началось с того, что по совету своего друга, Поля Ланжевена, Эйнштейн прочитал статью Луи де Бройля «Исследования по квантовой теории». С этого времени Эйнштейн становится убежденным сторонником детерминистского взгляда на волновую функцию, которого помимо де Бройля придерживались Шрёдингер и Лауэ; к этому взгляду были близки также Планк и Лоренц. Статистическую точку зрения активно отстаивали Бор, Борн, Гейзенберг, Иордан и Дирак, которые принадлежали к так называемой копенгагенской школе. Шрёдингер показал определенное сходство между матричной теорией Гейзенберга и своей, базирующейся на одном дифференциальном уравнении в частных производных.
Переломным моментом в этом принципиальном выборе нужно считать 1926 год, когда Шрёдингер навестил в Копенгагене Бора. Между ними вспыхнул спор о природе волновой функции. Шрёдингер выступал категорически против квантовых скачков, за непрерывность физических процессов. Бор же отстаивал, по сути дела, свою старую, взятую на вооружение еще в 1913 году, формально-феноменологическую точку зрения, в которой отсутствовала какая-либо претензия на физическое понимание атомных процессов. Статистическая точка зрения победила потому, что, во-первых, научный дух двадцатого века был заражен вирусом формализма, во-вторых, сторонники статистического толкования волновой функции были намного активнее сторонников детерминистского взгляда на нее.
Несмотря на отрицание непрерывности волновой функции физики предпочитали пользоваться больше уравнением Шрёдингера, чем матрицей Гейзенберга, хотя дифференцируемость предполагает непрерывность. Таким образом, в основании квантовой механики лежит противоречие. В 1954 году Борн в своей нобелевской лекции признал, что аппарат квантовой механики, разработанный Шрёдингером, «пользуется значительно большей популярностью», чем его противников.
Гернек писал: «Матричное счисление было в то время принадлежностью лишь чистой математики. В естествознании оно еще не использовалось. Поэтому большинству физиков оно было незнакомо. Дело обстояло точно так же, как с неевклидовой геометрией Римана, которая до релятивистского учения Эйнштейна о гравитации была чисто умозрительным построением, занимавшим только математиков. Но подобно тому, как геометрия Римана в 1915 году неожиданно получила благодаря Эйнштейну космологическое значение, матричное счисление спустя десять лет благодаря Борну приобрело огромное значение для микрофизики» [3].
Борн против ЭйнштейнаДалее нам удобно привести фрагменты доклада Макса Борна, сделанного в Берлинском физическом обществе 18 марта 1955 года по случаю 50-летия появления первой работы Эйнштейна о световых квантах (она носила название «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». Свою юбилейную речь докладчик начал с биографии Эйнштейна, что мы опустим. Когда Борн подошел к 1905 году, он сообщил:
«В промежуток времени между 1900 и 1905 гг. теория квантов, по-видимому, не сделала никаких успехов. Также и в основательной и широко охватывающей книге Э. Уиттекера «История, эфира и электричества» (1953), недавно вышедший второй том которой охватывает период с 1900 по 1926 год, ничего не сообщается об этом периоде.Иная картина возникла, когда 50 лет назад появилась первая работа Эйнштейна (Ann. Phys. 17, 132, 1905). Первые шесть параграфов этой работы содержали теоретические соображения, которые, за исключением немногих специалистов, привлекли к себе мало внимания. Однако последние три параграфа были посвящены совершенно новым применениям квантов, а именно — к объяснению правила Стокса при люминесценции, к фотоэлектрическому эффекту и к ионизации газов. Общая точка зрения состояла в том, что во всех этих случаях речь идёт о превращении кинетической энергии Е электрона в световой квант hν или наоборот, так что должно иметь место линейное соотношение вида
Е = hν + const.
Это соотношение на диаграмме (Е, ν) представляется в виде прямой с наклоном h, где h — универсальная постоянная Планка, значение которой было определено Планком из измерений излучения. Таким образом, это были доступные экспериментальной проверке утверждения и нет ничего удивительного в том, что физики-экспериментаторы на эту проблему набросились.
В мою задачу не входит излагать здесь историю экспериментальных исследований в этом направлении. Достаточно сказать, что работа Эйнштейна дала повод к многочисленным экспериментам и впервые навела порядок в области разнообразнейших явлений, связанных с возникновением и уничтожением излучения. Я, однако, хотел бы остановиться на упомянутых шести первых параграфах, так как собственно в них заключалась глубина и убедительная сила мыслей Эйнштейна.
Сам Эйнштейн не устаёт подчёркивать, что не существует однозначного логического пути от фактов опыта к теоретическим системам физики; последние, по его мнению, суть дети свободной фантазии. И однако же, ценность теории тем выше, наше доверие к ней тем больше, чем меньше в ней свободы выбора, чем больше её логическая принудительность. Мне представляется, что объединённые деяния Макса Планка и Альберта Эйнштейна удовлетворяют этому идеалу. Я попытаюсь пояснить это утверждение и притом с помощью обычной в настоящее время фразеологии и обозначений.
Планк в многолетней предварительной работе понял статистический характер чёрного излучения и развил методы его теоретического исследования. При этом он пришёл к убеждению, что энтропия, вследствие открытой Больцманом её связи с вероятностью состояния, является решающей величиной для описания поведения термостатистических систем. Относительно плотности излучения ρ было известно, что она должна иметь вид, предписываемый законом смещения Вина ρ = ν³/f (ν/T) (откуда следует закон Стефана—Больцмана для полного излучения), и что имеются два предельные случая: для высоких температур имеет место закон Рэлея (пропорциональность ρ температуре T), для низких —закон Вина (пропорциональность ехр(–a/T)
Первый шаг Планка состоял в замене исследования излучения исследованием системы одинаковых линейных гармонических осцилляторов частоты ν, находящихся в статистическом равновесии с излучением. Чисто электродинамический расчёт даёт для отношения плотности излучения ρ к средней энергии осциллятора U величину 8πν²/c³. Далее Планк вычисляет вторую производную энтропии S по энергии U я введу для этой величины сокращённое обозначение, полагая
(1)
где k — газовая постоянная на одну частицу идеального газа; далее я буду пользоваться вместо температуры величиной β = 1/kT. В таком случае простое термодинамическое рассмотрение даёт
(2)
Преимущество этого способа записи состоит в том, что в обоих упомянутых предельных случаях отнесённая к одному осциллятору энергия U является особенно простой функцией β, так что можно сразу написать явное выражение для (2). В самом деле, для больших T (верхние формулы Рэлея) и малых T (нижние формулы Вина) имеем:

(3)
Планк предпринял смелый шаг: интерполировать между обоими предельными случаями, образовав сумму

которая в предельных случаях больших или малых плотностей излучения переходит в одно из двух соответствующих выражений. С этим интерполяционным выражением получается путём интегрирования с учётом закона Вина для плотности излучения следующее выражение для средней энергии осциллятора:

(4)
где h — константа. Это выражение ведёт с помощью указанного переводного множителя 8πν²/c³ к формуле излучения Планка.
Конечно, изложенные соображения едва ли можно считать выводом вследствие произвольности выбора величины γ для интерполяции.
Во второй работе [Planck M., Verh. deutsch, phys. Ges. 2. 237 (1900)] Планк толкует энергию осциллятора (4) как среднюю энергию для больцмановского распределения с конечными квантами энергии
(n = 0, 1, 2, 3, ...)
=
Только тот, кто, как я, вырос в классических традициях, может полностью оценить смелость этой идеи. Сам Планк был склонен рассматривать распределение энергии конечными квантами не как свойство самого излучения, но как результат его взаимодействия с осцилляторами. Здесь на сцене появился Эйнштейн. Он открыл простое физическое значение использованной Планком для интерполяции величины 1/γ, которое непосредственно ведёт к представлению о независимых световых квантах и, кроме того, оправдывает самый метод интерполяции. Эйнштейн основывает свои рассуждения на соотношении Больцмана между энтропией S и вероятностью P:
(5)
Так как это соотношение в то время ни в коем случае не было общепринятым, то Эйнштейн даёт сначала простой вывод его (который и сейчас кажется мне самым лучшим). Нижеследующие рассуждения теснейшим образом связаны с эйнштейновской теорией флуктуации и броуновского движения.
Главная мысль вывода состоит в том, чтобы обратить формулу (5), рассматривая вероятность как функцию энтропии
(6)
и использовать термодинамические свойства энтропии.
Представим себе, что система, находящаяся в термодинамическом равновесии, разделена на малые равные части; тогда, вследствие статистической природы теплоты, энергия E в любой части не будет равна средней энергии
приходящейся на каждую из частей, а будут иметь место флуктуации
Энтропию рассматриваемой части (при постоянном объёме) можно считать функцией E и разложить по степеням ΔE. При этом полная энтропия не будет содержать линейного члена, так, как для адиабатически изолированной системы суммы по всем частям
В таком случае, принимая во внимание сокращённое обозначение (1), имеем:
Из (6) теперь следует приближённо
(7)
откуда получаем по (2) непосредственно:
(8)
Это и есть основная формула флуктуации энергии, используемая в эйнштейновской теории броуновского движения. Если, например, рассматривать материальную систему при постоянном объёме, то получается известный закон Эйнштейна
(9)
где
— удельная теплоёмкость.
В случае излучения E означает полную энергию излучения частоты ν, заключённую в выбранном за единицу малом объёме, т.е. величину, в среднем, равную ρ. Удобно вместо последней рассматривать величину
не имея ввиду при этом, что U можно определить как среднюю энергию находящегося в равновесии с излучением осциллятора. Впрочем, позднее выяснилось, что U имеет значение для самого излучения. Именно, поле излучения можно разложить по Фурье; тогда каждой компоненте Фурье соответствует осциллятор и оказывается, что 8πν²/c³ равно числу осцилляторов излучения в единице объёма для интервала частот, равного 1, а U есть энергия одного из этих осцилляторов. Эйнштейн рассматривает (виновский) случай низких температур, где энергия излучения U в указанной мере выражается
в таком случае из (8) следует
(T — мало)
Если рассматривать E как кратное n малых "квантов энергии" ε0
E = nε0 , (10)
то получается
где
— среднее число квантов и для среднего квадрата флуктуации n будем иметь:
(T — мало) (11)
Но эта формула означает, на основе известных статистических законов, что энергия излучения ведёт себя так, как если бы она состояла из независимых частиц величины ε0 = hν.
В этом и состоит в существенных чертах теоретическая часть, работы Эйнштейна. Позвольте мне, однако, сделать ещё один шаг.
Такое же рассуждение, как и только что выполненное, ведёт в (рэлеевском) предельном случае высоких температур, где U = 1/β, к формуле
(T — велико) (12)
или
(T — велико) (13)
Планковская интерполяция путём сложения обоих значений, имеющих место в предельных случаях, оправдывается простым замечанием, что средний квадрат флуктуации аддитивен, если флуктуации вызываются независимыми влияниями.
Каковы же эти процессы? Один из них истолковал Эйнштейн: при низких температурах, т. е. при малых плотностях энергии излучение ведёт себя как идеальный газ. Но в чём же состоит второй процесс, проявляющийся в чистом виде при высоких температурах? Г. А. Лоренц показал, что статистическое собрание плоских волн с произвольными амплитудами и фазами как раз ведёт к выражению (13) для флуктуации энергии.
Мы видим таким образом, что неявно в работе Эйнштейна уже полностью содержится дуализм волны-частицы. В случае малых плотностей энергии проявляются частицы, их число испытывает флуктуации по закону (11); для больших плотностей имеет место (13) и, наконец, для средних плотностей
(14)
Здесь, таким образом, проявляется та особенность квантовых эффектов, что из классических формул получаются правильные квантовые формулы, если заменить n² через n(n + 1).
Как же были приняты эти идеи? Я позволю себе говорить о моём собственном опыте. В Геттингене, насколько я припоминаю, я ничего не слыхал о квантах; также и в Кембридже, где я весной и летом 1906 г. несколько месяцев слушал лекции Дж. Дж. Томсона и Лармора и прошёл экспериментальный курс в Кэвендишской лаборатории. Только тогда, когда я осенью 1906 г. приехал в Бреславль к Луммеру и Прингсгейму, я попал в настоящую квантовую атмосферу. Ибо оба они сделали существенный вклад в экспериментальное изучение чёрного излучения. Но хотя в центре дискуссии стояла формула Планка, обсуждающие склонны были гипотезу Планка о квантовании энергии осциллятора рассматривать как предварительную рабочую гипотезу, а световые кванты Эйнштейна, всерьёз не принимали. Ведь, в самом деле, Луммер был большой специалист в области волновой оптики — вспомните пластинку Луммера — и было бы слишком много требовать от того, кто каждый, день наблюдал интерференцию, чтобы он поверил в возрождение корпускулярной теории. Делались попытки понять закон
классически. Также и я повинен в этом прегрешении; приведу Вам, шутки ради, мои рассуждения.
Вообразите яблоню, у которой длина l черенков яблок убывает пропорционально квадрату высоты H над землёй, тогда
Если теперь трясти яблоню с определённой частотой, то яблоки, висящие на определённой высоте, раскачаются в резонанс, упадут вниз и долетят до земли с кинетической энергией, пропорциональной высоте, с которой они упали, а потому и пропорциональной частоте ν: Voilai! Теперь нам это рассуждение кажется наивным, чтобы не сказать — детским. Но в извинение моё могу сообщить, что сам Макс Планк привёл эту модель в какой-то своей лекции. Откуда он её взял — не знаю.
В начале 1907 г. Эйнштейн сделал второй существенный шаг в теории квантов. Я имею в виду его теорию теплоёмкости [Ann. Phys. 22 180 (1907)]. Последняя ясно показывает, что дело отнюдь не сводится к обмену энергией между излучением и частицами, как это думал Планк, но что речь идёт о весьма общем принципе, охватывающем электродинамику и механику. Каким образом этот взгляд сформировался в моём мозгу, я точно не могу припомнить. Я познакомился тем временем с Эйнштейном и в разговорах с ним научился большему, нежели из его статей.
Внешне моё присоединение к точке зрения Эйнштейна проявилось в опубликованной мною совместно с моим другом Теодором Карманом теории теплоёмкости кристаллической решётки, — теории, в которой соображения Эйнштейна уточнены путём учёта колебательного спектра, в чём, впрочем, нас на несколько недель предупредил Дебай. Но это было уже в 1912 г. В следующем году созрел план Берлинской Академии наук, состоявший в том, чтобы пригласить в Берлин Эйнштейна, который в то время был профессором Высшей технической школы в Цюрихе. Для поддержания этого плана четыре наиболее выдающихся германских физика — Планк, Нернст, Рубенс и Варбург — сделали Прусскому Министерству просвещения представление, в котором они перечислили и оценили заслуги Эйнштейна.
При этом произошёл удивительный пассаж, о котором я могу рассказать Вам, не рискуя быть нескромным, так как он напечатан в прекрасной книге Карла Зелига «Альберт Эйнштейн и Швейцария». В представлении, о котором шла речь, говорится: «Подводя итог, можно сказать, что среди больших проблем, которыми так богата современная физика, не существует ни одной, в отношении которой Эйнштейн не занял бы примечательной позиции. То, что он в своих рассуждениях иногда выходит за пределы цели, как, например, в своей гипотезе световых квантов, не следует слишком сильно ставить ему в упрёк. Ибо не решившись пойти на риск, нельзя осуществить истинно-нового даже в самом точном естествознании».
Эта цитата иллюстрирует тот скепсис в отношении представления о световых квантах, который в то время был всеобщим. В мою задачу не входит описывать постепенную перемену настроений. Хочу отметить только несколько важнейших событий. К числу их относится прежде всего замечание Дж. Дж. Томсона, сделанное в 1907 г. и состоявшее в том, что число атомов, ионизованных рентгеновскими лучами, по мере удаления от источника лучей убывает, между тем как для каждого акта ионизации должна быть доставлена одна и та же энергия. Из этого он заключил, что излучение состоит не из сферических волн, но что оно скорее ведёт себя, как дождь частиц. Позднее (1916 г.) Эйнштейн обосновал эту идею «игольчатого излучения» (Nadelstrahlung) статистически, вычислив импульс, который получает и отдаёт взвешенная в световом поле частица при поглощении и испускании. Оказалось, что требование, чтобы при этом не нарушалось нормальное броуновское движение, выполнимо только в том случае, если излучение ведёт себя как газ частиц с энергией hν и импульсом hν / c.
Тем временем, начиная с 1913 г., стали появляться работы Бора о квантовой теории электронных орбит в атомах и о происхождении спектров. С тех пор стало ясно, что в физике будущего идея квантов должна играть доминирующую роль. За дискуссией о квантовых условиях и правилах отбора, необходимых для описания движения электронов, квантовая структура света была почти забыта до тех пор, пока в 1922 г. она снова стала актуальной благодаря открытию эффекта Комптона и его объяснению как следствия соударения фотонов и электронов. Это истолкование основано на применении законов сохранения энергии и импульса, причём используются оба открытия Эйнштейна, которые мы в эти дни особенно отмечаем, а именно используются релятивистские формулы


для электрона и квантовые формулы

для фотона.
К тому же кругу идей принадлежит работа Смекала, который в следующем 1923 г. обратил внимание на то, что согласно закону сохранения энергии в случае системы, состоящей из атома (или молекулы) и фотона, следует ожидать существования нового вида рассеяния света, а именно рассеяния с изменением длины волны. Это дало повод к пересмотру теории дисперсии с точки зрения квантовых представлений Ладенбургом, Крамерсом и Гейзенбергом,—важный шаг в медленном развитии, которое привело в конце концов к квантовой механике. Предсказанное Смекалем явление, которое теперь называется эффектом Рамана [комбинационное рассеяние], было открыто только в 1928 г. Раманом на молекулах и Ландсбергом и Мандельштамом — на кристаллах.
Что же касается формулы излучения, то Эйнштейн вывел её в 1916 г. на основе постулатов Бора о стационарных состояниях, рассматривая испускание и поглощение световых квантов по аналогии с радиоактивным распадом. Имеющая место, при этом симметрия вероятностей перехода Amn между состояниями m и n, Amn = Anm также была важным предвестником квантовой механики.
Этот вывод формулы излучения из вероятностей перехода соответствует в теории газов использованию формулы соударений Больцмана. Но законы равновесия газа можно вывести также, не рассматривая процессов соударения, путём отыскания наивероятнейшего состояния. Нельзя ли получить также и формулу излучения как энергетическое уравнение состояния фотонного газа?
Первоначальные рассуждения Эйнштейна, связанные с флуктуациями, шли в этом направлении, однако они привели только для случая малых плотностей излучения к формуле (11), характерной для газа, тогда как в общем случае имеет место более сложная формула (14). Этот вопрос долгое время занимал и беспокоил Эйнштейна и когда в 1924 г. индусский физик Бозе нашёл решение, учитывая в статистике принципиальную неразличимость фотонов, Эйнштейн тотчас воспринял эту идею и распространил её на материальные частицы.
Он тогда уже знал о смелых идеях де Бройля, лёгших в основу волновой механики (работы де Бройля публиковались в виде коротких сообщений, начиная с 1923 г., а в 1924 г. были собраны в его знаменитой диссертации). Статистика Бозе – Эйнштейна является последним положительным вкладом Эйнштейна в развитие квантовой механики. На этом я могу оборвать мой исторический обзор. Начиная с этого момента, отношение Эйнштейна к заложенным им самим основам квантовой теории становится всё более критическим и скептическим.
Он сам выявил парадоксальный дуализм волны-частицы. Главная задача теоретической физики состояла в преодолении этого кажущегося дуализма. Это было осуществлено двумя путями: путём обобщения представлений Бора об электронных орбитах возникла матричная механика, которая была основана Гейзенбергом и разработана им совместно с П. Иорданом и со мною, а также независимо от нас — Дираком; из гипотезы де Бройля возникла волновая механика Шредингера. Вскоре, однако, оказалось, что оба метода являются лишь различными представлениями одной и той же теории.
Формализм теории был уже хорошо разработан и обоснован прежде чем удалось найти разумную интерпретацию. Эта интерпретация отличается от классической теории отказом от точного предвычисления физических ситуаций; она позволяет лишь вычислять вероятности. Подавляющее большинство физиков приняло эту интерпретацию, — особенно экспериментаторы, так как эта интерпретация точно соответствует эмпирическому положению в исследовании атомов.
Но Эйнштейн считал статистическую интерпретацию неудовлетворительной и вновь и вновь пытался её опровергнуть. При этом, однако, интерпретация квадрата волновой функции, как вероятности, принадлежит самому Эйнштейну. Это он высказал мысль, что средняя плотность фотонов в световом луче должна совпадать с плотностью энергии электромагнитных волн, описывающих этот луч. Эту же самую идею я выдвинул в 1927 г. для истолкования волновой функции Шредингера; с соответствующими обобщениями она в настоящее время общепринята. Кажущееся противоречие в одновременном использовании волновых и корпускулярных представлений было снято соотношениями неопределённости Гейзенберга, Выдвинутое Нильсом Бором понятие дополнительности дало всему зданию квантовой механики теоретико-познавательный фундамент.
Сам фотон есть, конечно, особая частица: у него нет массы покоя и он всегда движется с одной и той же скоростью. Он относится, собственно, не к квантовой механике, а к квантовой электродинамике. Уже в первых работах Гейзенберга, Иордана и моих выполнено квантование электромагнитного поля путём установления перестановочных соотношений между компонентами поля и в качестве важнейшего применения дан вывод формулы флуктуации (14) для электромагнитного поля путём интерференции квантованных волн, причём сумма п + п² появляется автоматически. Это и было началом, из которого возникла современная рафинированная квантовая электродинамика Швингера, Фейнмана и др.
Но ни философия Бора, ни огромные успехи обыкновенной квантовой механики, ни поразительная точность полученных с помощью квантовой электродинамики результатов не могли заставить Эйнштейна признать эти теории. Он не отрицал их применимость, но считал их неполными, предварительными вспомогательными средствами, которые в будущем должны быть заменены чем-то лучшим.
Позиция Эйнштейна покоилась на его философских убеждениях. Я процитирую два места из его писем ко мне, которые я, впрочем, с его разрешения, опубликовал в одной моей книге (Natural Philosophy of Cause and Chance, Clarendon Press, Oxford, 1949).
В письме от 7 ноября [1947 г.] он писал:
«В наших научных взглядах мы развились в антиподы. Ты веришь в играющего в кости бога, а я — в полную закономерность в мире объективно сущего, что я пытаюсь уловить сугубо-спекулятивным образом. Я надеюсь, что кто-нибудь найдет более реалистический путь и соответственно более осязаемый фундамент для подобного воззрения, нежели это удалось сделать мне. Большие первоначальные успехи теории квантов не могли меня заставить поверить в лежащую в основе игру в кости».
От 3 декабря 1947 г.:
«Мою физическую позицию я не могу для тебя обосновать так, чтобы ты её признал сколько-нибудь разумной. Конечно, я понимаю, что принципиально статистическая точка зрения, необходимость которой впервые ясно осознана была тобой, содержит значительную долю истины. Однако я не могу в неё серьёзно верить потому, что эта теория несовместима с основным положением, что физика должна представлять действительность в пространстве и во времени без мистических дальнодействий... В чём я твердо убежден, так это в том, что в конце концов остановятся на теории, в которой закономерно связанными вещами будут не вероятности, но факты, как это и считалось недавно само собой разумеющимся. В обоснование этого убеждения я могу привести не логические основания, а мой мизинец, как свидетеля, — т. е. авторитет, который не внушает доверия за пределами моей кожи».
Год с небольшим назад у меня снова была, переписка с Эйнштейном по поводу небольшой статьи, в которой он развивает на конкретном примере ту же мысль: отрицание вероятностей как единственного объекта физической теории. При анализе этой модели у меня возникло сомнение в том, может ли на самом деле классическая механика делать детерминистические утверждения. В результате я убедился в том, что механистический детерминизм покоится на допущении, противоречащем методу мышления современной физики, обоснованному самим Эйнштейном, а именно противоречит постулату, согласно которому не имеют смысла утверждения, принципиально недоступные экспериментальной проверке. Небольшое сообщение по этому поводу я опубликовал недавно в журнале «Physikalische Blätter». В нём я обосновываю мысль о том, что и классическая механика может высказывать лишь вероятностные положения.
Поэтому возражение Эйнштейна против статистической интерпретации квантовой механики мне представляется беспредметным. Однако из цитированных выдержек из писем, а также и из позднейшей переписки вытекает, что отклонение Эйнштейном современной квантовой физики обусловлено не столько вопросом о детерминизме, сколько его верой в объективную реальность физического бытия независимо от наблюдателя. В другом месте я показал, что возражения Эйнштейна можно отвести, если проанализировать понятие реальности физических объектов и при этом соответственно использовать математическое понятие инвариантности относительно преобразований. Эйнштейн не ограничился критикой статистической интерпретации квантовой механики, но непрерывно стремился создать другую основу для физики. Исходной позицией для него служила при этом общая теория относительности, которую он пытался обобщить в надежде прийти в конце концов к объяснению квантовых явлений и элементарных частиц. Положительных результатов он не получил, и физики мало знали о его больших и трудных работах.
Тем самым Эйнштейн оказался в изоляции, которая была бы трагической, если бы не его радостный, оптимистический темперамент, который охранял его от горечи. Он ведь всегда был одиночкой. Он стремился к познанию не для материальных выгод и не для славы. Трагедия его жизни есть трагедия науки вообще…» [13, с. 128].
Эйнштейн был формалистом, но Борн во многом перещеголял его и распространил махровый формализм на явления микромира. Для демонстрации взглядов Макса Борна, которые в корне противоречили взглядам Эйнштейна, приведены фрагменты из пятой главы «Символ и реальность» его книги «Моя жизнь и взгляды». Опустим те места из нее, где рассказывается, как автор, будучи студентом, слушал новую (в отличие от старой, гегелевской) феноменологию Гуссерля, как кузен приобщил его к философии Канта, как он изучал эмпириокритицизм Маха и как он пришел к своей собственной точке зрения, которая сейчас называется копенгагенской. Начнем с того места, где Борн говорит о своем отказе от философии наивного реализма.
Я склонен думать, — пишет он в пятой главе, — что большинство из них [физиков старой школы] наивные реалисты, которые не станут ломать голову над философскими тонкостями. Они довольствуются наблюдением явления, измерением и описанием его на характерном языке научных идиом. Поскольку им приходится иметь дело с измерительными инструментами и установками, они пользуются обычным языком, расцвеченным специфическими терминами, как водится в любом ремесле.
Однако стоит им начать теоретизировать, то есть интерпретировать свои наблюдения, как они используют другие средства коммуникации. Уже в ньютонианской механике — первой физической теории в современном понимании — появляются понятия вроде силы, массы, энергии, которые не соответствуют обычным вещам. С развитием исследований такая тенденция становится все более отчетливой. В максвелловской теории электромагнетизма была развита концепция поля, совершенно чуждая миру непосредственно ощущаемых вещей. В науке становятся все более превалирующими количественные законы в виде математических формул типа уравнений Максвелла. Именно так случилось в теории относительности, в атомной физике, в новейшей химии. В конце концов, в квантовой механике математический формализм получил довольно полное и успешное развитие еще до того, как была найдена какая-то словесная интерпретация этой теории на обычном языке, причем и поныне идут нескончаемые споры о такой интерпретации.
Куда же идет наука? Математические формулировки не являются самоцелью в физике в отличие от чистой математики. Однако формулы в физике — это символы некоторого рода реальности "по ту сторону повседневного опыта". По-моему, факт этот тесно связан с таким [кантовским] вопросом: как объяснить возможность получения объективного знания из субъективного опыта? [1, с. 114 – 115].
Борн совершил небольшой экскурс в историю физики, чтобы обосновать свой формалистский выбор. Он пишет:
В первых оптических теориях использовались механические модели. Пространство предполагалось заполненным некоторой субстанцией, называемой эфиром — носителем колебаний, в соответствии с законами механики. Даже Максвелл открывал и популяризовал свои уравнения поля вначале именно при помощи образа скрытых механизмов. Механические модели использовались и в ранней период создания атомной теории, как и в кинетической теории газов, где атомы считались маленькими упругими шариками, которые отталкиваются друг от друга и от стенок контейнера.
Весьма медленно и вопреки сильной оппозиции рассматривалось убеждение, что модели не только не необходимы, но даже мешают прогрессу. Первым выдающимся примером явилось трактовка Генрихом Герцем максвелловской теории электромагнитного поля. Герца нельзя назвать чистым теоретиком, ибо именно ему мы обязаны экспериментальным подтверждением теории поля — открытием существования электромагнитных волн, причем от считал поле самостоятельной сущностью, описывать которую следует без механических моделей.
С тех пор развитие физики неодолимо идет в этом направлении. Явления природы нет необходимости сводить к моделям, доступным нашему воображению и объяснимым на языке механики. Явления имеют свою собственную математическую структуру, непосредственно выводимую из опыта.
Такое изменение воззрений вступило в решающую стадию в 1900 году, когда Планк, исследуя тепловое излучение, открыл новую мировую константу — квант действия. Открытие это не укладывалось ни в систему ньютонианской механики, ни в рамки физических теорий, построенных по образцу этой механики. Правда, модель движения электронов в атоме, предложенная Нильсом Бором, была микромоделью движения планет. Однако "допустимыми" были не все орбиты электронов, а только орбиты определенных "стационарных" состояний, характеризующихся неклассическими, "квантовыми" условиями. Переходы между этими состояниями — "квантовые скачки" — подчиняются правилам, подобных которым не было в механике. И когда это развитие физики увенчалось установлением законов квантовой механики, наступил конец эпохе механических моделей, а вместе с тем — конец причинному описанию в духе классической физики.
Таким образом, физика обрела свободу, необходимую для усвоения всевозрастающего количества наблюдений и измерений. Теперь физики пытаются найти математическое описание, подходящее к некоторой области экспериментирования, исследовать структуру этого описания, считая ее представляющей физическую реальность, причем не важно, сообразуется ли эта структура с привычными вещами. В качестве примеров упомяну искривленное пространство макромира в космологии, а также атомы, ядра и элементарные частицы в микромире; эти примеры имеют мало общего с нашим привычным окружением.
И все же предстоит добиться еще большей свободы, прежде чем физика сможет претендовать на право называть свои структуры изображениями реальности, скрытой "по ту сторону" явлений... [1, с. 122 – 123]
Применение вероятностных концепций обычно оправдывалось человеческой неспособностью строго и точно решать задачи с огромным числом частиц, в то время как элементарные процессы, например атомные столкновения, предполагались подчиняющимися законам классической детерминистической физики. Детерминистическая интерпретация ньютонианской механики на самом деле является неоправданной идеализацией… Эта идеализация основана на идее абсолютно точного измерения, а такое предположение не имеет, очевидно, никакого физического смысла. Классическую механику нетрудно переписать в статистическом виде. После открытия квантовой механики такое предположение устарело. Элементарные процессы оказались подчиненными не детерминистическим, а статистическим законам — в соответствии со статистической интерпретацией квантовой механики.
Я убежден, что такие идеи, как абсолютная определенность, абсолютная точность, конечная и неизменная истина и т.п., являются призраками, которые должны быть изгнаны из науки. Из ограниченного знания нынешнего состояния системы можно теоретически вывести прогнозы ожидания для будущей ситуации, выраженные на вероятностном языке. Любое утверждение о вероятности с точки зрения используемой теории либо истинно, либо ложно. Это смягчение правил мышления представляется мне величайшим благодеянием, которым одарила нас новейшая физика, новейшая наука. Ибо вера в то, что существует только одна истина и что кто-то обладает ею, представляется мне корнем всех бедствий человечества [1, с. 124 – 125].
Здесь автор выражает точку зрения тотальных релятивистов, которые уверены, что существует столько истин, сколько существует субъектов теории.
…Наивный реализм, — продолжает Борн, — является естественной позицией, соответствующей тому месту в природе, которое принадлежит человеческой расе, да и всему миру животных с биологической точки зрения. Пчела распознает цветы по их окраске или аромату. Философия ей ни к чему. И если ограничиваться обыденными вещами повседневной жизни, то проблема объективности выглядит как надуманные философские измышления [1, с. 125].
Так и есть: физик не должен руководствоваться философскими принципами, которые всегда выглядят надуманно. Его долг подходить к явлениям природы непредвзято и самым непосредственным образом. Природа наделили разум человека здравым смыслом, который не нуждается в искусственных философских подпорках. Как только философия — позитивистская, марксистская, религиозная — вмешивается в естественный ход познания, науке приходит конец. Вероятностной интерпретации убедила формалистов, что квантовые процессы протекают особым образом, будто у нас нет жизненного опыта пребывания в микромире, который устроен не так, как окружающий нас мир.
В мельчайших системах, как и в самых больших, — пишет Борн, — в атомах, как и звездах, мы встречаем явления, которые ничем не напоминают привычные повседневные явления и которые могут быть описаны только с помощью абстрактных [читай: формальных] концепций. Здесь никакими хитростями не удастся избежать проблемы существования объективного, независящего от наблюдателя мира, мира "по ту сторону" явления... [1, с. 125].
Таким образом, физики должны стремиться описывать суть своих абстрактных формул, насколько это возможно, на обычном языке, интуитивными понятиями. При этом встречаются специфические трудности, изученные копенгагенской школой Нильса Бора. Он показал, что атомные процессы можно описывать на языке "классических" понятий, если только при этом воздерживаться от одновременного описания всех свойств физической системы. Для исследования всех возможных свойств физической системы необходимы различные, взаимно исключающие, но "дополнительные" экспериментальные установки. Экспериментаторы свободны выбирать, какие именно установки следует подключать к опыту. Тем самым в физику проникает неустранимая примесь субъективности. Объективность отчасти утрачивается также благодаря тому, что предсказания физической теории всегда вероятностны: разные предсказания вызывают различную степень ожидания... [1, с. 127]
Здесь можно заметить, что поворот к абстрактному [= формальному] является очевидной тенденцией нашего времени. Обращение к абстракции можно наблюдать и в искусстве, в абстрактных картинах и скульптурах в частности. Однако параллелизм этот всего лишь кажущийся. Ибо представляется мне, что художники модерна избегают ассоциаций и интеллектуальных интерпретаций, сосредоточиваясь на эффектах зрительного восприятия.
Физик, с другой стороны, использует чувственные восприятия в качестве материала для конструирования интеллектуального мира. Слово "абстракция" в двух упомянутых случаях употребляется с противоположными значениями. Все же мы, ученые, должны всегда помнить, что весь опыт базируется на чувствах. Теоретик, погрязший в своих формулах, забывший о явлениях, которые он собирался объяснять, — это уже не настоящий ученый — физик или химик; а если своими книгами он загораживается от красоты и разнообразия природы, то для меня он жалкий глупец. Ныне мы достигли разумного равновесия между экспериментом и теорией, между чувственной и интеллектуальной реальностью. И мы должны следить за тем, чтобы такое равновесие сохранилось [1, с. 128].
Адепты квантовой механики Копенгагенской выучки отказываются иметь дело с модельными построениями Дж. Дж. Томсона и оперируют исключительно умозрительными понятиями и дефинициями. В частности, для них электрон — это математическая точка, снабженная каким-то образом — непонятно каким — волновой функцией ψ, квадрат амплитуды которой |ψ|² дает величину вероятности нахождения точечного электрона в данной точке пространства. Все, кто думают иначе, ставят себя вне науки и их теоретические разработки не публикуются официальными научными журналами. Таким образом, подавляющая часть конструктивно думающих физиков оказалась не у дел. Высокопоставленные же чиновники из отечественной Академии, а главное бесчисленная армия западных фантазеров (Вайнберг, Дойч, Капра, Дэвис и пр.) верит в близкий конец науки, когда все законы природы будут открыты и рядовые физики останутся без работы. Они думают, что знания о мире имеют пирамидальное строение. Вершина пирамиды — это некие глобальные принципы, определяющие всё множество «менее важных» законов, которые управляют какими-то «периферийными» областями мира. Огромные интеллектуальные ресурсы сегодня брошены на поиски универсальных формул, из которых можно было бы логико-математическим путем вывести не только, скажем, закон всемирного тяготения и уравнения Максвелла, но также эволюционный закон Дарвина, законы наследственности живых организмов, этические и эстетические законы, по которым живут отдельно взятый человек и всё общество в целом.
Рационально-конструктивное мышление устроено совершенно иначе. Конструктивист не верит ни в «начала» или «основы» мироздания, ни в «конец» знаний о мире. Дж. Дж. Томсон — человек, безусловно, обладающий высочайшим рационально-конструктивным чутьем, — в цитируемом выше докладе говорил: «…вся прелесть физики состоит в том, что в ней нет жестких и определенных границ. Каждое новое открытие не приводит нас к концу, а наоборот, открывает путь для дальнейших исследований; и потому пока будет существовать наука, всегда будет много новых неразрешенных проблем. Физикам нечего бояться остаться без работы». Формалисты же не только не стремятся к открытию новых форм знаний, но пытаются путем насилия над здравым смыслом, через «парадоксы» (в действительности, противоречия, как в теории Эйнштейна) и «сумасшедшие идеи» (как в теории Бора) уложить все свои тощие наработки в старую схему средневековых схоластов и алхимиков.
Из постоянно присутствующего желания как можно быстрее завершить исследовательскую работу в их мозгу возникает предчувствие, будто конец науки вот-вот наступит и что до построения «Великой Объединительной Теории» осталось сделать один крохотный шажок. Идеология «Теории Всего» вытекает из определенных мировоззренческих предрассудков, которые прекрасно улавливаются любым исследователем, занимающимся конкретной проблемой и чурающийся пустых мечтаний о всеединстве знаний. Формалист Мах и все последующие за ним релятивисты-утописты ориентировались на «экономию мышления», эфемерную «красоту формул» и субъективное чувство глубокого удовлетворения, которое охватывает их всякий раз, когда они сталкиваются с той или иной формой симметрии в символьных выражениях. Между тем Дж. Дж. Томсон предупреждал: «…нельзя думать, что вселенная построена по принципу наибольшего удобства математиков».
Проблемы, сильно волновавшие ученых начала XIX века, шли в основном с двух сторон — со стороны оптики движущихся тел и со стороны атомной физики. Первая группа проблем породила теорию относительности Эйнштейна, вторая — квантовую теорию Бора. Обе концепции немодельного типа и, следовательно, выпадают из традиционной методологии, свойственной классической физике. Строго говоря, эти две теории нельзя назвать физикой, поскольку они покоятся на совершенно чуждом ей мироощущении. Физиками были Архимед, Декарт, Максвелл. Их стиль работы предельно ясен: это построение пространственно-механической модели предмета, исследование ее работы и математическое описание. Если такой вид научной деятельности отрицается, значит, мы имеем дело не с физикой, а с качественно новой формой знания, близкой к схоластике.
Основоположником схоластики или спекулятивной физики является Аристотель. Современная квантово-релятивистская физика обладает всеми чертами знаний, которыми были забиты головы средневековых ученых. Первым признаком схоластики является апелляция к символу, дефиниции и конвенции, жестко действующей внутри корпорации академических ученых. Члены замкнутой корпорации не стремятся открыть какие-то новые законы природа, а договариваются о главных принципах функционирования своей науки и все, поступающие извне новые факты, пытаются утрясти в соответствии с установленными ранее договоренностями. Другой стороной схоластики является полная глухота к критике со стороны конструктивистов. Формально-условное отношение к действительности порождает компромисс и неточности.
Теория относительности и квантовая теория внутренне противоречивы и математически не согласованы. Однако на примере Гинзбурга было показано, что низкая квалификация академического сообщества не замечает глобальных противоречий, а с мелкими легко мирится. Формальное отношение к предмету открывает дверь для проникновения в академические корпорации многочисленных карьеристов-дилетантов, которые в поисках высокого социального статуса, ученых званий, наград и денежного пособия со стороны государства быстро усваивают основополагающие нормы принятой схоластики, декларируют их при каждом удобном случае, но не способны к поиску истинных результатов. Своё поощрение они получают только за то, что дипломатично лавируют между принятыми нормами спекулятивного догмата. Внутри корпорации господствует чинопочитание и культ вышестоящего академического начальника.
[1] Борн М. Моя жизнь и взгляды. – М.: Прогресс, 1977.
[2] Борн М. Воспоминания о Германе Минковском / УФН, т. LXIX, вып. 2, октбрь, 1959, с. 295 – 302. // Перевод С. Г. Суворова с рукописи автора.
[3] Гернек, Фридрих. Пионеры атомного века. Глава "Эрвин Шрёдингер и Макс Борн (Волновая механика и матричная механика)".
[4]. Борн М. Размышления и воспоминания физика. — М., 1977.
[5]. Рид К. Гильберт. — М.: Наука, 1977.
[6]. Борн М. Физика в жизни моего поколения. — М., 1963.
[7]. Эйнштейн А. Собрание научных трудов в 4-х. — М., 1965.
[8]. Картер П. и Хайфилд Р. Эйнштейн. Частная жизнь. — М.: «Захаров», 1998 (Paul Carter and Roger Highfield «The Private Lives of Albert Einstein», 1993).
[9]. Брайен Д. Альберт Эйнштейн / Пер. с англ. Е.Г. Гендель. — Мн.: «Попурри», 2000 (EINSTEIN: A LIFE by Denis Brian. — N. Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1996).
[10]. Пуанкаре А. О науке. — М.: Наука, 1983.
[11]. Лоренц Г.А. Старые и новые проблемы физики. — М.: Наука, 1970.
[12]. Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности / Составитель А.А. Тяпкин. — М., 1973.
[13]. Борн М. Альберт Эйнштейн и световые кванты / УФН, т. LIX, вып. 1, май, 1956, с. 119 – 134.